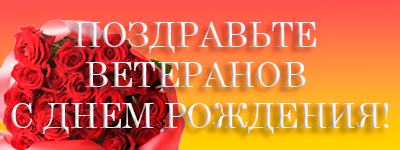Кошко Григорий Лукьянович
 Самый первый участковый
Самый первый участковый
Берёзовскому 40 лет. Возраст молодой. Но люди, положившие начало городу, теперь далеко не молоды. Свои силы, любовь, патриотизм они отдали ему, взамен получив яркие впечатления, воспоминания. По крупицам приходится собирать их нам, молодым, чтобы получилась неповторимая мозаика прошлого. Кто если не старики расскажут нам об истоках городской жизни в глухой сибирской тайге?
Адрес Григория Лукьяновича Кошко мне дали в милиции. 39 лет он отдал работе в ОВД. Там мне рассказали, что человек этот весёлый, разговорчивый и гостеприимный.
Работа началась с войны
Григорий Лукьянович открыл дверь, даже не спрашивая «кто там?», как обычно делают пожилые люди. Высокий статный старик с живыми, чуть прищуренными от любопытства глазами, не стал смотреть моё удостоверение.
- Я и так вас вижу, - сказал он, улыбнувшись.
Что мне спорить с бывалым милиционером, участником Великой Отечественной войны? Так я оказалась в маленькой квартирке человека, который был кода-то самым первым участковым милиционером и начальником милиции в нашем городе.
Усадив меня напротив, Григорий Лукьянович не стал дожидаться моих традиционных вопросов «Где воевали?», «Как попали в наш город?» и так далее, и сразу начал своё повествование.
Родом Григорий Лукьянович из далёкой Белоруссии. Мирную молодую жизнь прервала война. Отработав в органах внутренних дел всего один год, юный милиционер был направлен на защиту Родины. Его отряд милиции направили в город Барановичи.
Город оказался занятым немцами. Пришлось идти дальше до Могилёвской области. Шли пешком примерно 200 километров. Жара стояла в те роковые июньские дни дьявольская. Так дошли до Могилёва. С него и начали наводить порядок.
- Провокаторов в тылу была тьма. Везёт, к примеру, шофёр технику, а встретится ему переодетый в милицейскую или военную форму немец (специально обученный русскому языку), наговорит, мол, враги окружили, дальше дороги нет. А на самом деле до линии фронта ещё 10-15 километров. Будет водитель окольными путями пробираться, да и сгинет - местность-то болотистая. Вычисляли таких «регулировщиков» дорожного движения.
Посылали нас на борьбу с немецкими десантниками. С ними шла настоящая война. Партизанская. Не давали им развернуться в городе и окрестностях. Немец понял, что разведку забрасывать бесполезно – остановился, выходит, мы с заданием справились.
Когда Ленинград оказался в окружении, отряд отправили в город для его защиты. Там я пробыл до августа 1943 года. Город отстаивали вместе с его жителями, настоящими патриотами. Вместе с ними перенёс голод. Знаю, что такое бомбёжки, 250 граммов плохого, хлеба в день.
Большая земля
После того, как прорвали блокаду, милицейскому отряду, где служил Григорий Лукьянович, предложили ехать на «большую землю».
- Я понятия не имел, что это за земля Сибирь. Кроме как на карте и не видел, - смеётся Григорий Лукьянович. - Дали приказ, значит надо ехать.
В молодую, только что образовавшуюся Кемеровскую область требовались штатные сотрудники милиции. Кроме того, истощённых голодом блокадников старались перевезти в тыл для получения лучшего питания.
- В конце лета я прибыл в Кемерово, - продолжает свой рассказ Григорий Лукьянович. – Город, по моим представлениям, совершенно был не похож на столицу. Маленький: один трамвайчик бегает - и всё, даже асфальта толком нету. Глушь.
Преступники терроризировали мирных жителей. Надо было сражаться с ними как на войне. Видимо руководство ОВД посчитало Григория Лукьяновича как раз подходящим для такой работы, ведь к тому времени ему вручили уже две боевые награды: медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги». Воевать в тылу не легче, чем на фронте. Там перед тобой враг – фашист, его не надо разыскивать, он сам наступал, а здесь свои, русские, с оружием в руках грабили, убивали сограждан, а потом скрывались от правосудия, продолжая своё грязное, жестокое дело.
Судьба – та, что ближе
- В Кемерове стали предлагать работу в любом городе области. Я смотрю по карте: какой ближе всего к столице, туда и решил идти. Барзас – всего 50 километров от областного центра, думаю, удобно будет ездить по работе в Кемерово. Так и выбрал себе место работы. Приехал туда на поезде (один раз в сутки ходил из Кемерова). - Григорий Лукьянович закрыл глаза, будто пытаясь вспомнить точнее своё первое впечатление. - Посмотрел: красота! Тайга сразу пленила. Может, из-за любви к сибирской природе я и остался в этих краях на всю жизнь.
В первый же день работы начальник милиции положил перед участковым портфель, набитый заявлениями от жителей: кого-то обокрали, избили, обидели. «Поезжай, - говорит, - и разгружай портфель!». До него ведь работать было некому, а преступники чувствовали свою безнаказанность. Собирались бандами по 6 -7 вооружённых человек, врывались в дома, в подполье закрывали всю семью и грабили.
- А что делать, - восклицает Григорий Лукьянович, - Поехал! Сначала ознакомился с участком, который оказался довольно большим: Кроме посёлка Барзас станция Бирюли, Арсентьевский, Вотиновский, Барановский, Подьяковский сельсоветы, Колмогорово. Автомобилей, конечно, не было. Лошадки во время войны все вымотанные работой, худые, а зимы-то в Сибири снежные. Дорогу заметет, если лошадь с тропинки оступится, распрягать надо, иначе не выберется. Вот так вот и работали.
- Как же справлялись с такой большой работой?
- Давали самостоятельно работать. В райотделе я бывал только один раз в месяц с отчётом. Всё остальное время был в разъездах по своему участку. Изучил людей в деревнях, люди меня знали, помогали в следствии. Так дело и шло.
Через некоторое время работоспособность Григория Лукьяновича заметило начальство. Назначили старшим оперуполномоченным отдела по обеспечению государственной собственности. Теперь, за нехваткой следователей, молодому специалисту приходилось заниматься уголовными делами на своём большом участке.
Без громких дел не бывает…
- Григорий Лукьянович, повидали ведь на своём веку многое на такой-то работе! Поделитесь каким-нибудь громким делом?
- Громкие дела, конечно, были. Такое на Барзасе дело раскручивал, что только и говорили все вокруг: чем же кончится? Как же он посмел на начальство дело завести? Но рассказывать про город такое накануне сорокалетия не буду, дело то очень уж неприятное было. Я вот лучше про другие районы расскажу. Там не менее интересные вещи творились.
Сразу после войны в Щегловском совхозе парторг Горбиков, честный человек, фронтовик и другие жители начали поговаривать, что директор у них жульничает, ворует. Я-то понимаю, чтобы это проверить, надо самому знать, как ведётся сельское хозяйство, права и обязанности начальства в совхозе. Сразу за директора браться не стал, а для начала набрал литературы да поднабрался там информации, чтобы разговаривать с подозреваемым на равных. Не в тёмную ж с ним толковать – обманет! Работать ведь голова должна, а не милицейская форма! – смеётся. - Решил делать ревизию на всех трёх фермах, которые входили в совхоз: Барановская, Кедровская и Центральная.
Только задача усложнялась тем, что бухгалтеры, которых я должен задействовать в проверке сами находились в подчинении у директора. А тот не так прост: большие знакомства у него в области. Счетоводы понимали, что начальника могли и не посадить, в этом случае они могли потерять работу. Да и мне, если не доказать его вины, можно погореть, как шведу под Полтавой! Но пришлось рискнуть, надо же пресечь безобразия!
Проверка выявила, что не хватает 13 голов поросят возрастом до 3 дней, несколько свиней-недоростков, достигших всего 30-40 килограммов - все они списаны как погибшее поголовье.
«Что ты добился своей ревизией?», - ехидничал директор. А я ему говорю: «Ничего пока не добился, читай второе постановление о ревизии!». И пошёл сам с ревизорами. Сверял картотеку, сам считал поголовье на фермах, расспрашивал свиноводов, которые всех свиней по кличкам знали. Восстановил-таки справедливость: 120 свиней по 100 с лишним килограммов не хватало!
Провёл расследование, повёз дело в барзасскую прокуратуру. К расхитителям в тяжёлые послевоенные годы закон был жесток: до 20 лет лишения свободы. Директора посадили.
Точно так же не побоялся я проверить заведующую совхозской столовой. Она делала наценки на продукты. Пошёл к прокурору с этим делом, а он говорит: «Попробуй, докажи! Ведь, сколько блюд, на все нужно делать расчёт! Нужно доказать, что она прибыль с каждого имеет и к себе в карман складывает!».
Нашёл я бухгалтера, который сделал все эти расчёты. Результаты занесли в большую, как газету, таблицу, которую рисовали вместе. Доказательства представили прокурору, в суд. Заведующую сняли.
Сколько таких дел было – не счесть, но люди не держали зла на меня, знали, что были виноваты. Да и я сам старался не быть с ними грубым, никогда не называл их преступниками. Бывает, всякого бес попутает, за то и понесёт наказание человек. Но жизнь его на этом не кончается, он ещё успеет и добра людям сделать.
Продолжал свою работу Григорий Лукьянович начальником поселковой милиции в Кургановке, когда началось бурное строительство Берёзовского. Здесь работу начал с паспортизации 18 тысяч первых жителей города. Раньше жили со справками. Вёл борьбу с преступностью, сам задерживал, расследовал дела, потому что работников не хватало.
- Всё-таки, Григорий Лукьянович, тянуло на родину, в Белоруссию?
- Я думал, что если меня снимут когда-нибудь за то, что не в своё дело лезу, уеду в Белоруссию! Но случая не представилось, был здесь нужен, здесь и работал, завёл семью. Лучше для меня работы и города, кажется, не было.
Долго ещё разговаривали со стариком по душам. Он переживает и болеет за Берёзовский, мечтает, что в нём будут свои фабрики, новые рабочие места для молодёжи, город будет расти и развиваться.
Уходя, я вспомнила, что фамилия моего собеседника принадлежала когда-то легендарному человеку Аркадию Францевичу Кошко, уроженцу Минска, возглавлявшего московскую сыскную полицию в начале ХХ века. Его называли русским Шерлоком Холмсом, дела о хищениях, убийствах, которые он расследовал, были сенсацией для столицы и всей России.
- Григорий Лукьянович, вы, не потомок ли «русского Шерлока Холмса» Аркадия Францевича?
- В Белоруссии людей по фамилии Кошко, как в России Ивановых! – смеётся, - про «русского Холмса» я не слышал.
Царских служащих не брали на работу в милицию, даже самых выдающихся, и их детей тоже. Время было такое. Поэтому советской милиции приходилось нарабатывать методы расследования самостоятельно. В первую очередь обращали внимание на талантливые, одарённые кадры. Такие умные, проницательные, сильные люди как Григорий Лукьянович сделали советскую милицию авторитетной.
Анна Чекурова
Публикация взята из журнала ГУВД Кемеровской области "На страже Кузбасса" № 5-6 2005 год

 Из воспоминаний Михаила Семеновича Путимцева: «Родился 10 октября 1920 года в деревне Тарасовка Брасовского района Брянской области. В 1925 году родители переехали в Ростовскую область. Жили на хуторе Московский Мартыновского района. Там я окончил семилетку, работал в колхозе учетчиком.
Из воспоминаний Михаила Семеновича Путимцева: «Родился 10 октября 1920 года в деревне Тарасовка Брасовского района Брянской области. В 1925 году родители переехали в Ростовскую область. Жили на хуторе Московский Мартыновского района. Там я окончил семилетку, работал в колхозе учетчиком. года. После ликвидации авиа звена с моего согласия был переведен на «остриё» борьбы с преступностью в милицию на должность участкового уполномоченного сначала в Кировском, а затем Заводском РОВД города Кемерово.
года. После ликвидации авиа звена с моего согласия был переведен на «остриё» борьбы с преступностью в милицию на должность участкового уполномоченного сначала в Кировском, а затем Заводском РОВД города Кемерово.