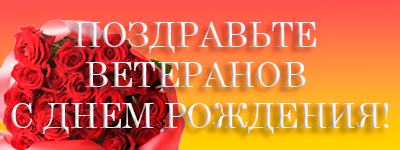Сячин Николай Максимович
Быстрые мгновения фронтовой жизни
Военная биография Николая Семеновича почти не отличается от биографий сверстников. Родился в Томской области, в селе Михайорвка. В 1941 ему только-только исполнилось 12 лет. Трое братьев, как и все остальные деревенские мужчины, ушли на фронт. Остался в деревне Коля да еще старик-инвалид, ветеран гражданской. Женщины взвалили на себя весь крестьянский труд. Сеяли, пахали, урожай собирали, за скотом ухаживали. Николая поставили бригадиром полеводческой бригады. Справлялся. И до сего дня преклоняется он перед русскими женщинами, способными нести на себе непосильную мужскую ношу.
Николай родился 10 декабря 1927 года. Его призвали в армию в 1944. В учебном батальоне, расквартированном в Ачинске, проучился четыре месяца и 1 мая 1945 года (не доучившись и не получив такое ожидаемое звание младшего командира) был отправлен вместе с другими бойцами в маршевую роту. Погрузили их в теплушки – и в путь. Как они надеялись, что конечной целью будет западный фронт, как мечтали хоть день провести на боевых позициях! Не сбылись их надежды. Поезд шел на Дальний Восток.
Добрались до станции Шилка. «Смотрим – большое волнение народа в городе. И нас из эшелона высадили и объявили День Победы, – волнуясь, рассказывает Николай Михайлович. - Расформировали нас по воинским частям – там кадровые дальневосточные армии были. По всем батальонам раздали, и мы там несколько дней помогали им на оборонительных работах».
А затем вновь теплушки и долгий путь до Уссури. Места сейчас там курортные, красивые. Только в то время не до красот ребятам в солдатских шинелях было. «Завезли нас в сопки, там уже стоял действующий 262 Неманский полк, который снялся с Запада. И нас туда всех в пополнение. Я был зачислен в роту автоматчиков. Жили мы там по кустам. А в Приморье знаете, какая погода влажная? Мы все мокрые, шинели на нас мокрые. И мы стариков-фронтовиков спрашиваем: «А где мы жить-то будем?» Они так с юмором интересно говорят: «О, сынок! У кустика. Посидишь у кустика – это твой домик!». И мы так в этих кустиках жили с полмесяца. Ну, у них там были кое-какие трофеи – пилы, топоры, прочее. Мы стали рубить дубы, липы. Стали строить себе землянки. Построили землянки, накрыли дерном и тогда уже зажили почти в домашних условиях. Нары были у нас из прутьев. И с нами постоянно стали проводить боевые учения. Снарядов там не жалели на учения, гранат не жалели. И были занятия в больших масштабах. Там есть сопка Медвежья, около озера Шмаковского, вот мы штурмовали перед переходом границы это озеро.
Через некоторое время ночью нам сыграли тревогу, погрузили в вагоны, повезли. Но уже не скрывали, что мы будем воевать с японцами, и нас готовили к этому. Привезли в Камень Рыболов, там разгрузили и увезли нас в сопки. А там кустарник чуть выше человека. И там тоже делали себе домики. У нас были плащ-палатки, и вот мы на двоих «петушок» плетеный делаем, плащ-накидкой прикрываем. Учения боевые были каждый день. Потом в один прекрасный день выстроили нас, выдали НЗ, шпику американского, сухарей, и патроны. Мы по два диска зарядили и еще запасные. И объявили (мы были рядом со станцией Пограничная), что выступаем против японцев. И пошли наши штурмовики. Авиация. В небе слышен был только гул. Они провели восьмичасовую артподготовку по переднему краю. Мы сразу двинулись вперед. Перешли границу. Там ощущался только запах гари, пыли. И трупы. И мы двинулись вперед. По 90 километров в сутки двигались, чтобы побыстрей захватить территорию. Сутки шли, круглые сутки. Ни под каким предлогом не разрешали покидать строй. И вот скомандуют: «Привал!». Ночью там или днем, садишься здесь же, где шел, и отдыхаешь. А ночью если идешь, несколько суток не спавши, на ходу спали. Идешь-идешь, об автомат стукнулся – все, вспомнил, что в строю идешь. Мы во втором эшелоне шли. А потом как первый эшелон принял бой, тут ребят повезли раненых, нас перевели в первый эшелон. Мы скатки бросали, чтобы полегче было. Потому что жарко было очень. В землю голову воткнешь, особенно днем, спасенье только в ней находишь. Все побросали. Командир кричит: «Вы что делаете? Меня ведь посадят!» Какой там, кто разбирается!».
Первые несколько суток японцы не оказывали сопротивления вообще. А вот на территории Китая, где у них были хорошо укрепленные оборонительные сооружения, бойцам пришлось и под обстрел попасть, и первые потери понести. Повоевать, в общем. «Остановились на бивак возле железнодорожного полотна, налетел на нас бреющим полетом, и давай нас бомбить. Отбомбил, и ушел. А капитан Кулаков сидел чай пил, ему пуля прямо в рот попала, он так за чашкой чая и остался. А уже, когда он второй раз залетел, наши его - зенитками! Отстреляли его, отсекли, и посадили на нашу территорию. Потом был случай, Мы на гору забирались, целые сутки. Речка. Нас направили форсировать её. А комсорг полка, старший лейтенант Сухачев, и адъютант командира полка, на верховых лошадях отъехали, и их японцы взяли на прицел. Нас подняли по тревоге, и пошли мы их искать. А за нами пятую роту послали. Они по нам стреляют – мы же впереди. Связного послали. «Что вы делаете?» Нашли старшего лейтенанта. Он оказался жив, а нести нам его не на чем. У нас все сопрело от соли. Гимнастерку возьмешь, она расползается. Ну, мы все равно сняли гимнастерки, донесли его до санбата. Ночью сделали ему операцию. Утром он скончался. Похоронен там.
Японцы оказывали сопротивление, но у нас все же сил было больше. Начали разоружать японскую армию. Солдат, генералов. Их где-то сто человек, нас десять человек, и мы их отправляли их в плен. А плен был огорожен досками, там мы их сосредотачивали. Генералы, они богатые были, с собой чемоданы, саквояжи возили. Это все изымалось, тем не менее, им полагались форма, мундиры, эполеты, сабли и адъютанты. Вот мы их в плен возили. Некоторые по-русски старались общаться. Пленные никогда сопротивление не оказывали».
Часть, в которой служил Николай Михайлович продвигалась вглубь китайской территории так быстро, что тыловое обеспечение за ними просто не поспевало. А кушать хочется! Вот и переходили солдаты на «подножный корм». «А китайцы же хлеб не едят, хлеба нет, а были у них в основном галеты – это прянички такие упакованные. Вот мы питались галетами. И консервами, баночки небольшие такие, крепко соленые. И мы кушали. А когда нам сказали, что это собачьи, мы все равно их за милую душу ели. И уже в Китае, когда пришли – не брезговали, ели. А одежда на нас вся рухнула. Ни гимнастерки нету, ни брюк – все сопрело. Вот мы у этих пленных брали кителя, брюки и обувь. Так нас было не понять – какая армия: или китайская, или японская, или русская. Все мы надели одеяния их, потому что у нас не было ничего. Причем тылы так отстали, что когда пришли, у них тоже ничего по существу-то и не было. Фронтовая жизнь диктует быстрые мгновения. Мы там пробыли до декабря. Нам сказали, что мы будем выходить из Маньчжурии. Много там побросали лошадей. Вот этих лошадей подобрали, и оттуда возвращалась не пехота, а кавалерия целая.
Когда выводили наши войска, я с ними и выходил. Нас вывезли: станция Ружино, Лесозаводск. Это рядом с Даманским. И нас поместили в гарнизон Медведицкий. А мороз, холод. У нас ни шапок, ничего. Выдали нам подшлемники. Так вот мы из них сделали «кубанки». Условия были, конечно, адские. Мы переписку не имели с Родиной, а потом нам мешками стали письма носить туда, где мы стояли».
Окончательно на родину, то есть в мирную жизнь, Николай Михайлович вернулся в 1952.
Евгения Гончарова
Публикация взята из журнала ГУВД Кемеровской области "На страже Кузбасса" № 5-6 2005 год