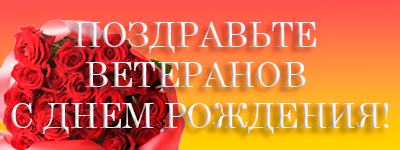Русанов Георгий Евдокимович
 «Мы толкали планету на Запад…»
«Мы толкали планету на Запад…»
…Старшина Георгий Русанов, услышав приказ о том, что должен прибыть к командиру части, в первую очередь подумал об очередной награде, справедливо полагая, что иной причины быть не может. Да и то верно. Позади – три года войны, которая «била и ломала, но пришёл конец и ей самой». Уже встретили и отметили День Победы. На груди – ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». В приподнятом настроении шагал старшина.
Но услышанное от командира превзошло все ожидания и стало гораздо большей наградой. Оказалось, что Георгия, командира миномётного расчёта 5-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, вместе с его наводчиком, Николаем Полий, направляют в Москву для участия в параде Победы на Красной площади!
Интересно всё-таки устроен человек: с малолетства свойственно ему гадать-загадывать наперёд, стремясь узнать, представить или спланировать свою будущую жизнь. И самому же потом удивляться поворотам судьбы и её непредсказуемости.
Шестой ребёнок в семье Русановых (а после него родились ещё четверо), маленький Георгий искренне огорчался при очередной свадьбе в их доме.
– Что же это такое? – бывало, едва не плача, спрашивал у родителей. – Старший брат женился – ему коня отдали на приданое. Сестре – корова досталась. А мне что?
В ответ те, улыбаясь крестьянской сметке сынишке, отвечали: мол, и тебя не обойдём. Кобыла родит жеребёнка, а оставшаяся на подворье корова принесёт ещё не одного телёночка…
На деле же оказалось, что не понадобилась Георгию Евдокимовичу никакая животина, потому что к сельской жизни после войны он так и не вернулся. Зато с раннего детства хлебнул её во всей полноте. Даже мне, немолодому человеку, странновато было осознавать, что вижу и слушаю очевидца, хорошо помнящего годы, когда в Сибири только начали зарождаться колхозы. А Евдоким Русанов, отец Георгия, был единоличником, и в числе нескольких других односельчан довольно долго сопротивлялся коллективизации. К слову, последующая колхозная жизнь мало что изменила для семьи Русановых и, по-прежнему протекала она в нищете и больших трудах.
В родных Новохудяках, что затерялись в Беловском районе, в силу своей малости, Георгию удалось закончить всего четыре класса. Дальше за наукой надо было отмерять каждый день по 30 километров: 15 – туда, 15 – обратно. Но тот учебный год для пятиклассников села закончился уже в ноябре. По дороге в школу встретились ребятишкам два волка. Вышли они из-за кустов неожиданно, сели на дорогу и – ни с места. До сих пор помнит Георгий Евдокимович их внимательный, пристально-недобрый взгляд. Спас ребят случайно проезжающий односельчанин.
Расстроился тогда Жорка, понявший, что не видать ему больше школы. Пришлось самому осваивать учебники, от старших оставшиеся, вызубрил их от корки до корки, потому что учение давалось ему легко. И книги очень читать любил. Только даже на это времени не хватало.
КАК это ни странно, но не будь у Георгия Евдокимовича всех деревенских умений, неизвестно, как бы пришлось ему потом на войне, которую начинал он пехотинцем. А это значит – километры по земле, уже так привычной для твоих ног. С полной армейской выкладкой за спиной и на плечах, уже хорошо знакомыми с тяжестью. И тысячи, тысячи килограммов земли, переброшенные лопатой на рытье окопов, – тоже знакомая до боли (в буквальном смысле этого слова) работа.
– Война – работа, - соглашается со мной Георгий Евдокимович, - только самая нечеловеческая работа на свете.
К декабрю 1941 года, когда его призвали на службу в армию по достижении восемнадцатилетия. Семья Русановых только-только переехала в Белово. Георгий работал на железной дороге, но его «бронь» отменили: немец стоял уже практически у Москвы.
2 декабря Георгий вместе со своими ровесниками прибыл в Кемеровскую полковую школу, где наскоро обучили призывников строевой подготовке и другим азам солдатской науки, а уже 6 января 1942 года их, младших сержантов, погрузили в воинский эшелон.
– На фро-нт, на фро-нт! – стремительно отстукивали вагонные колёса. – На-фро-нт, на-фро-нт! - оглушительно кричал паровоз, мощной грудью разрывая то дневной свет, то темноту ночи, словно радуясь «зеленому» огоньку, позволяющему ему беспрепятственно мчаться на запад страны. Ясное дело, железу не дано понятие о том, что мчались те колёса в безудержимости своей к крови и боли, к страху и смерти.
Везли курсантов в «телячьих» вагонах. Русанову, имевшему немалый рост, удалось при подъезде к столице рассмотреть сквозь окна, расположенные под потолком, купола церквей. Почти два десятка насчитал тогда их парень и очень удивился, ведь в Сибири все храмы были подчистую уничтожены.
И видится сегодня в том особое предзнаменование: будто сам Господь, стоящий во главе своего святого воинства, встречал и благословлял на ратный подвиг тех 18-летних курсантов.
… На защиту Москвы тогда были брошены все силы, в их числе 144-я отдельная курсантская бригада, в которой служил и младший сержант Русанов. Бригада участвовала в наступлении. Немец вёл себя, как те волки на дороге: отходил, помалу огрызаясь, не подпуская к себе близко. К тому же почему-то на этом участке и со стороны наших войск не было каких-либо стремительных атак. Русанов вспоминает, как радовались они, безусые юнцы, происходящему: вот, мол, пришли сибиряки и бежит фашист. Конец войне!
А потом была деревня Незлучи, в бою за которую полегла практически вся 144-я. Русанов уцелел среди немногих не из «восемнадцати ребят», а четырёх тысяч человек!
– Если бы в сорок третьем или сорок четвёртом году случись тот бой, когда мы уже научились воевать, - вытирает Георгий Евдокимович набежавшие слёзы, - такую деревню можно было взять ротой. А тогда – бригада понадобилась!
БОИ за Москву окончились для Георгия Евдокимовича тяжёлым ранением ноги. Санитарныи эшелонами вернулся он в Сибирь. А когда вылечился, то отправился едва ли не туда, откуда для него война началась, – к Старой Руссе. Теперь в четвёртой армии стал служить, в составе одного из двух лыжных батальонов. На волокушах доставляли они в отряды народных мстителей всё необходимое для жизни в лесу и боевой деятельности партизан: продукты, мины, пулемёты, боеприпасы, лекарства, необходимую технику.
Батальону приходилось вести и разведывательную работу, и диверсионную в тылу врага: брать «языков», минировать мосты, переправы, железные дороги.
Во время второго глубокого рейда к партизанам группа, в которой был и Русанов, не смогла сразу выйти к своим. Как говорит Георгий Евдокимович, «здорово нас тогда «рама» потрепала». Бронированное брюхо самолёта делало его неуязвимым для автоматных очередей. Пришлось скрываться в лесу, из которого только что вышли. Отступили, потеряв нескольких товарищей. А когда прямая опасность миновала, поняли, что пришла другая: где свои, где немцы – не понять.
К счастью, выручила их группа воздушных десантников, выполнявшая задание, они выходили к передовой. Командир группы принял под своё командование лыжников, вывел их под Калинин. А приглянувшегося ему Георгия забрал с собой. Так Русанов попал в 8-й гвардейский воздушно-десантный полк, надел новую для себя форму. Как шутит он сегодня: «на погонах – самолёты, почти что лётчик». Было это в марте 1943 года.
ЕЩЁ в свою бытность в пехоте, Георгий присмотрел для себя новую специальность, считавшуюся среди солдат, как сказали бы сегодня, очень престижной, – миномётчика. Потому-то, будучи в госпитале после второго ранения, назубок выучил устав миномётной службы. И после маршевой роты попал в состав пополнения 5-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии. Вот с ней-то и прошёл в боях с июля 43-го до 9 мая 1945 года. С Южного до Прибалтийского фронтов. Дважды ещё он был контужен, но до госпиталей не доходил: воевать лучше среди своих однополчан, верных фронтовых друзей-товарищей. Потому отлёживался в санбатах денёк-другой и – к родному миномётному расчёту, командиром которого стал с первого дня возвращения на фронт. Наводчиком у него был Николай Полий. И ещё в подчинении двое: наводчик Иванов, заряжающий Салов и подносчик Еремин.
4 апреля 1944 года впервые Русанов понял, что такое артподготовка. Полтора часа стреляли одновременно 300 миномётов, только он из своего выпустил 60 мин. Затем подключились зенитки, самолёты… Такая мощь двинулась на врага! Именно тогда, при взятии Крымского перешейка, ясно осознал солдат: конец войны близок. И, действительно, 44-й и начало 45-го прошли в победных наступлениях, отвоёванных городах, освобождении земли нашей от коричневой чумы.
… БЕРЕЖНО переворачиваю ставшие хрупкими от времени листочки – благодарности от Главнокомандующего участнику боёв в Восточной Пруссии Георгию Русанову за освобождение городов Даркема, Норденбург, Пиллау…
– Это уже в конце войны их давать стали, - поясняет Георгий Евдокимович, - прежде таких не было.
Но ведь и без того ветеран не забудет названия не только городов, но и посёлков, и маленьких населённых пунктов, куда входили они, воины-освободители. И далеко не всегда радостными были те победы. Несли они смерть боевых товарищей, мрачнели бойцы при виде разрушенных зданий, измученных жителей и виселиц, с которых не успевали ещё снять трупы мучеников, павших от рук фашистского зверя.
А из всех своих наград едва ли не главной считает Георгий Евдокимович медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», с удостоверением в красной обложке, которые выдавали только участникам парада Победы.
Мирная жизнь началась для Русанова с учёбы в вечерней дивизионной трёхгодичной партийной школе. Как память о том времени – трудовая книжка с указанием профессии «советский работник» и названиями первых мест деятельности в новом качестве.
Однако уже в 1951 году старшина Русанов приходит на службу в органы милиции, оканчивает вечерний университет марксизма-ленинизма. Поначалу работает в родном Белове, а в 1965 году приезжает в Ленинск-Кузнецкий. Одна должность сменяет другую, но самым памятным остаётся время, когда Георгий Евдокимович был начальником службы Ленинск-Кузнецкого ГОВД. По нашим временам – это должность начальника милиции общественной безопасности, в подчинение которого входит большая часть гарнизона милиции: сотрудников дознания, участковых инспекторов, ОБЭПа (в те года – ОБХСС), паспортного стола, ГАИ и многие другие.
С теплотой вспоминает полковник милиции в отставке Русанов своих бывших соратников – солдат мирных будней, участковых Черненко, Ртищева, Воронцова, Зинченко, Сафонова и многих других. 23 года составил милицейский стаж службы Г.Е. Русанова, а закончил он её в отделе вневедомственной охраны.
Троих детей – двух сыновей и дочь вырастил Георгий Евдокимович вместе со своей супругой Верой Федоровной, к сожалению, покинувшей наш мир пять лет тому назад. Теперь вот он один за двоих радуется тому, как растут и крепнут, набираются сил шестеро (поровну внуков и внучек) внуков и пятеро мальчишек-правнуков. Есть чем гордиться ветерану, есть кому гордиться отцом, дедом и прадедом.
А он, слава Богу, остаётся по-прежнему неугомонным и неравнодушным к жизни. Вот, в который уже раз, по многочисленным историческим книгам разбирает карты с местами боевых сражений, в которых ему доводилось участвовать. Выстраивает по ним свой собственный боевой путь. Вновь и вновь возвращается к кузбасской Книге памяти. Составил даже собственную классификацию погибших сограждан, из которой выяснил, что в боях больше гибли молодые, а вот без вести пропали больше всего те горожане, которым на войне было за тридцать.
Любовь к статистике, аналитическим выводам привела к тому, что по жизни Георгий Евдокимович и для чтения предпочитает больше энциклопедическую, справочную литературу. Спросила, как относится к художественным произведениям, фильмам, песням о войне, и с некоторым удивлением услышала, что многим другим авторам ветеран предпочитает военные песни В. Высоцкого.
– Это как же он смог почувствовать суть пехоты! – восхищается Георгий Евдокимович. – Это ведь про нас песня: «Мы толкали планету на Запад: от себя, на себе, под себя…».
Прощаясь со мной в дверях, ветеран полушутливо, молодцевато выпрямился и в глазах его мелькнули искорки былого молодого задора. А я, глядя на него, вспомнила слова адмирала из фильма «Дорогой мой человек», которые так подходят к случаю:
– Вот ты со мной запросто. А я – легенда, истори-я!
С. Ленская
Публикация взята из журнала ГУВД Кемеровской области "На страже Кузбасса" № 5-6 2005 год